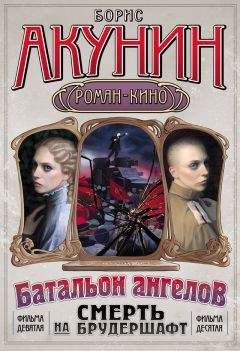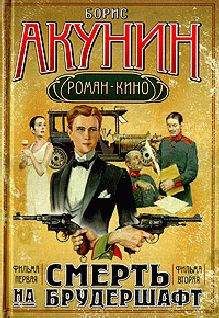— Утица закрякала, — подхватил остряк попроще. — Кря-кря! Щас яйцо снесет!
Все вокруг засмеялись, а печальный господин в пенсне процитировал из Иоаннова «Откровения»: «Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю…».
Немедленно назад, в министерство, сказал себе Романов. Сказать этому клоуну: я не классная дама, дайте мне другое назначение. Однако ведь слово офицера…
Новый взрыв хохота — это одна из доброволок упала, поскользнувшись на траве.
— Гли, гли, умора!
— Домой ступай, дура! К папе с мамой!
Парень, что крякал уткой, теперь засвистел в два пальца — прямо в ухо. Романов в холодной ярости двинул свистуна локтем под ребра. Растолкал передних и, мрачнее тучи, пошел к воротам, за которыми, боязливо отставив от себя винтовку с примкнутым штыком, стояла тетка в новехонькой, с еще несмявшимися складками форме.
На плацу
— Эй, унтер-офицер! — издали хрипло заорал Романов. — Отставить занятия! Ко мне!
Неряшливый вислопузый дядька (еще и с цигаркой во рту, это на учении-то!) обернулся на незнакомого штабс-капитана.
— Девоньки-теточки, постоять-оправиться!
Вразвалочку подошел, но все же откозырял.
Его водевильное воинство немедленно разбилось на несколько кучек. Кто-то стал с любопытством разглядывать Алексея, другие о чем-то затарахтели.
— Начальник плац-команды Сидорук, — доложил унтер, немного подумал и принял довольно неубедительную стойку «смирно». Почувствовал по взгляду офицера, что так будет лучше.
— Где командир батальона? — рявкнул Алексей.
— Бочка-то? В штабе. — Начальник строевой команды кивнул на институтский корпус.
— Какая еще «бочка»?
— Все ее так зовут, господин штабс-капитан. Потому фамилия у ей Бочарова.
— У ей? Батальоном командует… женщина?!
Невероятно! Со слов чувствительного господина в пенсне Алексей решил, что прапорщик Бочарова состоит при батальоне чем-то вроде комиссара или «святой девы-вдохновительницы» — как Жанна д’Арк при капитане Дюнуа.
— Так точно. Она боевая. Две ранении, полный георгиевский бант. — Сидорук понизил голос, перешел на доверительный тон. — Да всё одно — баба есть баба. А вы к нам что ли назначены? Ох, набедуетесь.
Алексей помолчал, переваривая информацию. Ну и скотина же комиссар Нововведенский! Деваться однако некуда.
— Во-первых, застегнуть ворот, — проскрипел Романов. — Во-вторых, сапоги чтоб сверкали. Вы — строевик, должны подавать пример, а похожи на обозного. В-третьих: командира батальона «Бочкой» и тем более «бабой» не называть. Ясно?
В женском институте
Стиснув зубы шел Алексей по длинному и широкому коридору, где еще недавно парами разгуливали институтки в белых фартуках. Сейчас вдоль стены выстроилась очередь: женщины и девушки, по преимуществу совсем молодые, по-разному одетые, с саквояжами, чемоданчиками и просто узелками. Те, что стояли ближе к лестнице, выглядели оживленными и шумно разговаривали, но по мере приближения к рекреационному залу болтовня звучала тише, а лица делались напряженнее.
В просторном прямоугольном помещении была устроена парикмахерская. Щелкали ножницы, трещали машинки, состригали под ноль и пышные куафюры, и девичьи косы, и модные прически «а-ля гарсон». Весь пол вокруг шести стульев был будто покрыт жухлой травой светлого, темного, рыжего оттенка. Шесть парикмахеров исполняли свою работу с одинаково траурными физиономиями. Мальчик-подмастерье ползал на корточках, отбирая самые пышные и длинные волосы — пригодятся на парики и шиньоны.
Романов замер от такого зрелища и не скоро тронулся с места. Много всякого повидал он на войне, бывал и под артобстрелом, и в атаке, и в окружении, но никогда еще не попадал в атмосферу столь всеохватного ужаса. Ужас застыл на лицах женщин, чья очередь стричься еще не подошла; ужасом были перекошены лица страдалиц, сидевших на стульях. Вот одна зарыдала в голос, схватившись за наполовину обритую голову. Плач был немедленно подхвачен еще двумя, уже остриженными — они обнялись, жалостно стукнувшись голыми лбами.
— Ой, мамочки, нет! Не буду! — взвизгнула девица, которую усаживали на стул, оттолкнула парикмахера, побежала назад, стуча каблучками — и заволновался коридор, заохал, закудахтал.
Но к освободившемуся месту подошла тоненькая барышня с чудесными светло-русыми волосами, взбитыми волной, с огромными глазами врубелевской царевны, с решительно поджатыми белыми губами.
— Стригите!
До того она была хороша, что парикмахер, уже завернув девушку простыней, всё медлил.
— Эх, рука не поднимается. Может, передумаете, мадемуазель? Я по-отечески. Куда вам на фронт? Вон ручки-то у вас. Только веером махать.
Но барышня сквозь зубы повторила:
— Стригите.
И упали на плечи прекрасные локоны, а затем машинка простригла по затылку дорожку, и в полминуты царевна-лебедь превратилась в гадкого утенка: маленькая голая головка на тонкой шее, а на макушке бледно-лиловое родимое пятно, прежде невидимое. И так стало Алексею противно от зрелища изуродованной, зря погубленной красоты, что он прошептал: «Черт знает что!» — и пошел прочь с проклятого места.
Где именно находится штаб батальона в этом содоме понять было трудно. Романов сначала поднялся на этаж, потом на два спустился. Можно было бы спросить у бродивших по корпусу доброволок, но Алексею не хотелось вступать ни в какие разговоры с этими горе-амазонками. Как к ним, собственно, обращаться? «Эй, солдат»? «Сударыня»?
Наконец набрел на дверь с табличкой «Директриса». Должно быть, здесь. Во всяком случае, перед входом торчал часовой (то есть, тьфу, часовая) со штыком на ремне.
— Господин офицер, сюда нельзя.
— Мне всюду можно, — огрызнулся Романов. — Я назначен старшим инструктором.
Коротко постучал, распахнул дверь. Увидел вереницу совершенно голых женщин, выстроившихся в очередь к столу, за которым сидели люди в белых халатах. Оглушенный визгом, захлопнул створку.
— Что тут такое? — зло спросил он у часовой, хотя и так было ясно: медосмотр.
— Медицинский осмотр. Потом — стричься. Потом — в баню. Потом — получать обмундирование. Такой порядок.
— А где командир батальона?
— Вон она, — показала куда-то в сторону солдатка (нет, «солдатка» — это жена солдата). — Интервью дает.
В дальнем конце коридора, у окна, виднелись три силуэта, высвеченные солнцем: длинный мужской, еще один мужской, но скрюченный над фотокамерой, и приземистый, бочкообразный, в галифе и фуражке.
— Ин-тер-вью… — пробормотал Алексей, присовокупив нехорошее слово.
Ну понятно. Перед прессой красуемся.
— Что, господин офицер? — удивилась солдат (нет, так тоже не скажешь). — Извините, я не расслышала.
— Как вас называют? Не «солдат», не «солдатка». Вы сами как себя называете?
— Мы «ударницы». Ведь мы — Ударный батальон Смерти.
— Спасибо, что не «смертницы»…
Бочка
Фотограф полыхнул магнием, поймав хороший ракурс: толстуха в офицерском френче картинно оперлась кулаком о монументальное бедро, а щекастую физиономию с носом-кнопкой гордо задрала кверху.
Хоть на груди (большущей, непонятно как втиснувшейся в военную форму) сверкали начищенные кресты и медали, баба-прапорщик произвела на Алексея неприятное, даже отталкивающее впечатление. Вся она была каким-то издевательством, глумлением и над боевыми наградами, и над честью мундира. Лицо плоское, грубое, глаза с поросячьими ресницами, голос прокуренный — и видно за двадцать шагов, что вся исполнена сознанием своего величия. Что там она отвечала журналисту, важно кивая головой, Романов не слышал. Он остановился на изрядном расстоянии, дожидаясь, пока Бочарова закончит пыжиться перед прессой.
Уже придумалось, как выпутаться из этого скверного анекдота. Нужно с ходу нагрубить, повести себя вызывающе. Надутая индюшка нипочем такого не стерпит, выгонит непочтительного помощника в шею. Тогда можно с чистой совестью, не нарушив слова, идти за новым назначением.
— Госпожа Бочарова, наши читатели интересуются, почему вашей части дано такое поэтическое название: «Батальон смерти»? — спросил корреспондент.
Тут Алексей сделал несколько шагов вперед. Любопытно было послушать, что она ответит.
Вблизи стало ясно, что Бочарова не важничает и не позирует, а просто переминается с ноги на ногу от нетерпения и явно хочет побыстрей отделаться от интервьюера.
Хмурясь, она коротко ответила:
— Потому что мы все умрем.
Сказано было без пафоса, скорее с досадой, словно женщине скучно объяснять очевидные вещи. Романов сощурился, решив приглядеться к этой шарообразной тетке получше.
— Но на войну идут, чтоб победить, а не чтоб умирать, — возразил репортер.
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]](https://cdn.my-library.info/books/181548/181548.jpg)
![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов]](https://cdn.my-library.info/books/181590/181590.jpg)